Сам Константин Сперанский называет себя литератором, а не писателем, а в рамках хип-хоп-группы «Макулатура» — автором-песенником, а не рэпером.
Так совпало, что буквально недавно вышел тираж новой книги Константина под названием «Пустоцвет», про которую он говорит, что это история «одной российской семьи — то ли на изломе, то ли в пору безвременья».
Мы встретились в кафе с идеальным названием — «Немедленно кофе», чтобы поговорить о любимых и не очень книгах, творческом процессе, Санкт-Петербурге и Москве, глянце, спорте и «заземленном» оптимизме.
— Памятуя о том, что ты как-то сказал про «Правила жизни», что «этот журнал — потемкинская деревня. Как и весь глянец». С глянца и начинаем наш диалог.
Этот комментарий касался конкретного издания, в котором я работал. Тогда он ещё, кажется, не назывался «Правила жизни». Возникло определённое впечатление, которое, наверное, можно перенести и на некоторые другие СМИ. Многие таким занимаются: создают иллюзию какой-то деятельности, «надувают» какие-то фигуры, которые на самом деле не имеют ни экспертизы, ни значения — ничего. Либо просто своих друзей зовут. И это бывают вполне обаятельные люди, но по кому-то видно, что они пришли сюда ради тусовки или вчера познакомились на вечеринке. И, поскольку издание федерального масштаба, это казалось странным. Если бы я пришёл в районную газету или при каком-то баре в листовку, сделанную на коленке — это было бы одно. А тут всё-таки большие слова, большие деньги.
— Сейчас рынок СМИ в целом сильно поменялся, впрочем, как и многое другое. Ушли большие международные издательские дома, появились новые имена. Что ты как потребитель сейчас читаешь?
Ты меня врасплох застала. Я мало читаю периодические издания целенаправленно, только если что-то попадается, какие-то ссылки. Всё это касается в основном литературы. Издание «Горький» могу назвать. А журнал какого-то широкого lifestyle профиля? Мне кажется, что ушло уже время таких журналов.
— Ну как ушло? Всё последнее время новые появляются. «Чтиво» Минаева, например.
Это ещё одна странная тенденция. Неважно, что человек говорит, главное кто он. Люди, аудитория, часто сами не знают, чего хотят. Цепляются за конкретную фигуру и готовы ему доверять. А он, условно, будет рассказывать, что молоко пить полезно.

— Банальности какие-то?
Да, а люди их будут для себя переоткрывать.
— Но может быть для кого-то — это первое знакомство с чем-то околоинтеллектуальным? Может быть такая поп-просветительская деятельность — это и неплохо?
Может быть, я не знаю, о чём именно он пишет.
— Он, как всегда, в тренде. В журнале, как и в своих книгах, Сергей тонко улавливает запрос аудитории, он в целом отличный маркетолог. Насколько в наше время, как тебе кажется, для писателя это важно — «держать руку на пульсе»? Или ты когда пишешь об этом вообще не думаешь?
Конкретно я не думаю. Просто я же нишевый все-таки автор. И в своей нише я ещё не достиг всего, что можно, она может расширяться.
— А какая она, твоя ниша?
Трудно описать её как-то социологически. Это наверное около независимой музыкальной сцены публика, около независимого книгоиздания. Те, кому интересна авангардная, маргинальная поэзия.
— Это и про твоего читателя, и про твоего слушателя получается?
Да, это человек с уже настроенным компасом в плане того, чего он хочет и он отправляется на поиски скорее не знаний, а впечатлений гуманитарного характера (смеётся). Я и сам таким был. Мной руководила некая жажда, голод, может быть даже возмущение, злоба от того, что я видел, когда рос в Кемерово. Тоже был какой-то глянец, очевидные издания, то, что показывали по телевизору в то время. Мне это всё не нравилось и хотелось чего-то другого.
— Глубины?
Чего-то, что дало мне другой взгляд на вещи. Не знаю, это не было сформулировано чётко. Может быть вымещение ярости мне нужно было.
— Так у всех, наверное, кто идёт на концерт или в библиотеку за книгой. Мы хотим что-то почувствовать, о чём-то подумать.
Ты должен знать, к чему обращаться в таком случае. А когда ты можешь вопрос сформулировать и отправить его в воздух…
— Во Вселенную!
Да. То тебе обязательно вернётся ответ.
— И как ответ пришёл тебе?
Я открыл для себя Лимонова и через него уже круги, связанные с маргинальной литературой, за неимением лучшего для неё определения. Модернистской литературой. Журнал открыл издательства «Колонна», который вообще никакого отношения к Лимонову не имеет и совершенно противоположное ему направление взял. Издаёт французов XX века, которых больше никто не издаст. Я узнал про Селина, Жана-Жене, Мисиму. Целый корпус писателей, о которых никто нигде не говорил. Я даже нашему преподавателю по западной литературе рассказал про Жана-Жене и Селина, потому что он их не знал, хотя читал курс литературы XX века. Вот так и пошло-поехало: нашёл для себя этот способ поиска и он работает для всего в жизни.
— Ты у себя в Telegram написал «не спрашивайте почему так книга называется». Людям, не отягощённым филологическим образованием, наверное, нелегко понять этот момент со словами, что оно просто подошло и всё.
У Сьюзан Зонтаг же есть эссе против интерпретаций. На него можно ссылаться, потому что оно избавляет от необходимости что-то объяснять. Текст он такой какой есть и дальше уже каждый может как угодно его трактовать.
То же самое с фильмами Дэвида Линча, например. У него постоянно пытались добиться объяснений, а он всегда отказывался. И также, мне кажется, должен не любой писатель поступать, а только некоторые. Потому что есть авторы, которые пишут книги с целью правильной интерпретации. Толстой, например, в «Крейцеровой сонате», но это все равно великое произведение.
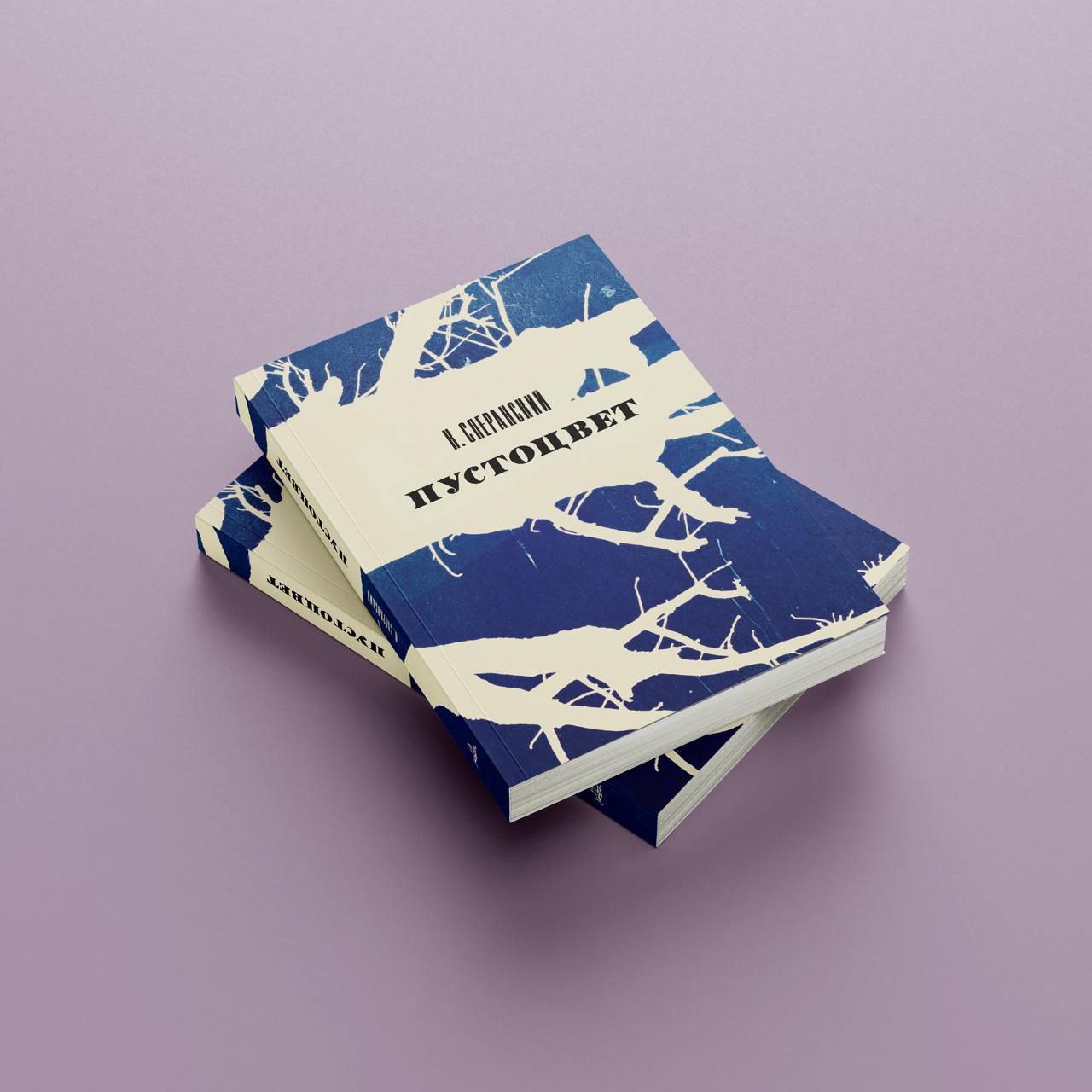

— Великое, конечно, и он велик. А как ты сам в писательство пришёл? Когда лампочка зажглась, и ты решил — сейчас сяду, буду писать?
Разные были моменты, сложно сказать, что был какой-то один определенный. Скорее можно говорить о каждой отдельной книге, зачем я решил её написать, а не про то, что был какой-то один импульс — нажали на переключатель и понеслось.
Я даже сказал бы, что в моём случае один текст вообще опровергает другой своим существованием, но после того, как какой-то текст вышел, мне уже он неинтересен. Мне трудно о нём говорить, потому что я сам даже толком не понимаю, зачем он возник. Реконструировать свои ощущения, мотивации, были ли у меня они на самом деле? Я мог бы сейчас додумывать, конечно, какую-то наплести чушь, но зачем?
— То есть это скорее, грубо говоря, как Ван Гог, который писал просто потому, что не мог не писать картин, это практически физическое желание? А потом результат уже неинтересен.
А мне как раз это вообще никогда не было понятно. Я вообще могу не писать, даже хочу не писать. Так-то, если бы я делал только, чего хочу, я бы вообще ничего не делал.
— Ну, это неправда, мне кажется. Ты лукавишь. Сидел бы в кафе здесь целый день просто и читал?
Ну, вообще, да, в идеале я бы читал всё время. Это мое любимое занятие. Но я уже вошел в такой штопор, в такой период, когда ты не можешь себе даже позволить спокойно полениться. То есть ты озабочен необходимостью какого-то дела. Это необязательно должно быть писательство, можно на тренировку, например, сходить, можно побегать. Ну или приятно болеть, например, потому что болезнь избавляет тебя от необходимости шевелиться. Лежишь неделю в кровати и читаешь.
— Ты просто трудоголик, наверное, и поэтому только так разрешаешь себе полениться.
Это скорее невротическая реакция на бездельное. Я вообще не трудоголик.
— Какие бы книги ты взял на свои полениться на ближайшие три дня? Есть у тебя лайнап?
У меня никогда нет списка необходимого чтения, просто беру книгу, которая ко мне взывает. У меня три больших книжных шкафа, а прочел я от силы десятую часть.
— И все равно продолжаешь покупать новые?
В прошлом году я дал себе зарок не покупать книги вообще, но исполнил его только отчасти. Хотя бы я купил меньше, чем обычно. А почитал бы наверное сейчас биографию Набокова, она меня ждёт.

— Мой самый любимый писатель! Давай его обсудим? Он очень скептично относился к тому же Достоевскому, например. В своих лекциях его на чём свет стоит поносил. Кому-то его стиль и личность не близки, но сложно отрицать, что это великая фигура просто в силу того, что на неродном ему языке человек создавал произведения, которые до сих пор переосмысляются, экранизируются.
Ну английский ему был тоже родной, как и русский, он же все-таки учился в Кембридже.
— Я тоже свободно говорю по-английски, но как Набоков вряд ли на нём напишу. А у тебя не бывает такого, когда читаешь подобных ему людей, что начинаешь думать: «И как писать после этого?», что всё уже украдено до нас, все написано, величайшие слова сказаны?
Говорят же, что Холокост отменил поэзию, но Набоков все-таки не отменил литературу. Я даже на него не ориентируюсь, потому что это вообще отдельно стоящая фигура и его сопоставлять ни с кем невозможно. Он настолько себя отгородил от всех, от русской литературы, которую сделал своим зверинцем или игровой площадкой, что сам себя обрёк на одиночество. Это настолько же история, касающаяся величия отдельного человека, как и его трагической в итоге судьбы. Потому что он в этом смысле одинок: над всеми смеётся, но никто его не продолжает и он ни на кого не ориентируется.
Он любил Ходасевича, но трудно сказать что он на него как-то мог повлиять, разве что в поэзии. Были писатели, которых он уважал, но все-таки он так тщательно зашпаклевал все щели, что туда вообще никакой сквозняк не проходил. Набоков как душная красиво обставленная комната, в которой долго прожить невозможно.
— Его и русским писателем уже никто, в общем-то, не считает. Поэтому было удивительно увидеть в книжном магазине «Москва» большой стенд, посвященный его юбилею. Обычно он в забвении. Грущу, что второй этаж его квартиры отдали под музыкальную школу. Там на потолке как раз облака, про которые он вспоминал в «Других берегах». И музей как таковой очень, к сожалению, скромен.
Зато остался прежним вид из окна, который он описывал. Я был музее Бродского, тоже в Петербурге. Там тоже не все в точности воссоздано, потому что последняя соседка, которая еще помнит Бродского, живёт там своей комнате или квартире до сих пор и отказывается отдавать помещение музею. Но они сделали музей из того, что можно, и он неплох. Полторы комнаты доступны и вид тоже из окна неизменный.
— Ты вот говоришь про вид из окна, что он такой, как автор его описывал. Но по большей части люди выбирают сюжетные истории, мало кто любит смаковать слово, читать развёрнутые описания. Твоих «Ротозеев» я читала очень долго, хотя я читаю быстро и книга небольшая. Но это как с Прустом — ты погружаешься в слово, в образность и просто от этого кайфуешь.
(Смеётся) Ну какой Пруст, я себе цену знаю.
— Такая «нишевая», как ты её называешь, литература заставляет чувствовать, думать, вспоминать что-то, но на это, увы, очень небольшой спрос. Хотя мне кажется, что люди стали больше читать.
Мне трудно судить и трудно социологически измерить, стали ли люди больше читать. Но если судить по книжным блогам, то сейчас очень любят всякие фанфики, полусубкультурные тексты, которые объединяют, например, женских блогеров и они друг друга репостят постоянно. А есть тоже нишевая литература, но маргинальная. Её круг читателей трудно описать.
— Что ты имеешь ввиду под маргинальной литературой? Это как у Паланика: про нечистоты, пот, кровь и слёзы?
Маргинальная литература — интересная узкому кругу читателей, которая не вписывается в мэйнстрим. Я о социальной скорее говорю нишевости, хотя трудно сейчас об этом говорить, потому что нет никакого мейнстрима, поэтому нет и маргинальности.
А Паланик настолько уже забытое имя.
— Отнюдь. Вот новая книга вышла в конце 2024 года. Он регулярно публикуется, просто возможно не всё переводят.
Я даже не сожалею, что не в курсе. Паланик думает: «Как бы мне сейчас изгалиться? Я уже написал про девочку в аду, про, условно говоря, бомжей, которые поедают младенцев». Просто это эквилибристика и все. А то, что он выбрал для своей эквилибристики литературу — это просто вопрос случая. Он мог бы быть циркачом, космонавтом или каскадёром. Ты просто смотришь на то, как отдельный человек упражняется в каких-то все более странных упражнениях. Мне интересна литература, а не упражнения, и это соображение про Чака Паланика распространяется на всех других авторов, которые пишут, чтобы что-то в рамках литературы эдакое создать. Мне литература интересна, когда она меняет что-то. Как направление реки меняют искусственно, так и одна сильная книга может поменять направление мысли, которая раньше привычным образом текла. Такие тексты есть, в том числе и художественного жанра. Набоков во многом, Толстой тоже.
— Раз уж мы вернулись к Толстому. Про Софью Андреевну, именно про масштаб ее личности, я узнала, когда приехала в Ясную Поляну. Купила ее дневники там, и это одна из самых тяжелых книг, которую я читала. Невозможно не сокрушаться, что настолько талантливая, умная, прекрасно пишущая женщина была фактически кухаркой, поломойкой и секретаршей пускай и гениального мужа. У меня ощущение, что она как литератор, как писатель могла бы сделать не меньше. И это не только про нее, а вообще про женщин в русской литературе — и в классической, и сейчас. Их очень мало. Как думаешь, почему так?
Отчего же, есть женщины. Оксана Васякина, например, ультра популярна. Я не её фанат, хотя «Пустоцвет» по сути о том же, о чем пишет Оксана. Но я просто не могу её читать, несколько подходов даже предпринимал.
— Почему?
Было ощущение, что женщина на остановке какими-то порывистыми движениями отрывает куски сухой рыбы и жует их, озлобленно глядя по сторонам. Вот такое от её стиля было ощущение. Мне просто не близка эта стилистика.
Ты вот прочитаешь и поймешь, о чём я говорю, и может тебе понравится. Такая нормальная женская проза.
— Константин, нельзя говорить «женская»!
Да, вообще это разделение, я считаю, неуместно. Оно случайно вырвалось.
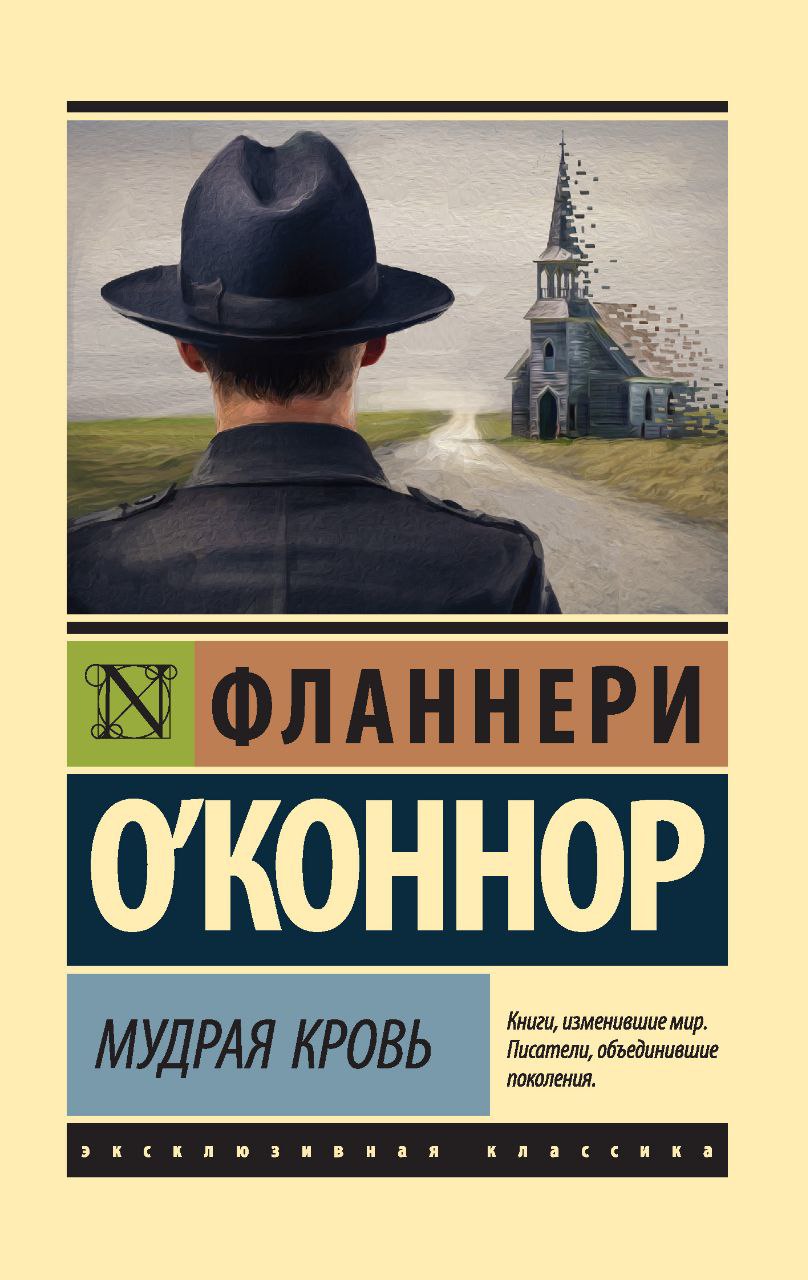
— Кого из авторов-женщин читаешь?
Мне очень нравится Фланнери О’Коннор. Почти всё прочёл у неё, что на русском языке выходило. Это американская писательница середины XX века, писала в жанре «южный готик». Она всю жизнь прожила в Джорджии, довольно рано умерла, не дожив до 40 лет. Очень умная, ироничная и не милая католичка. У неё такие очень кафкианские тексты, хотя она сама не любила когда ее сравнивали с Кафкой.
После её романа «Мудрая кровь» ты сидишь как будто мир вверх тормашками перевернулся перед тобой. Вот такие я люблю впечатления от текста, этого я и ищу всегда в литературе. Книги гораздо мощнее, чем кино, на мой взгляд, как инструмент. Литература может настолько глубоко в тебя проникнуть, что потом ты долго приходишь в себя. Фланнери О’Коннор — одна из немногих писателей XX века, которая могла это проделать. Наверное, если говорить об авторах-женщинах, то, да, это может быть мой любимый женский автор.
— Но всё же — где ещё русские женщины? Понятно, что сейчас есть Улицкая, Рубина и так далее. Но в Америке, в Англии, во Франции все равно было и есть гораздо больше женщин, пишущих в разных жанрах. И ведь не сошлёшься уже на «стеклянный потолок». Если задуматься, то в СССР феминизм процветал. Женщина была в первую очередь товарищ.
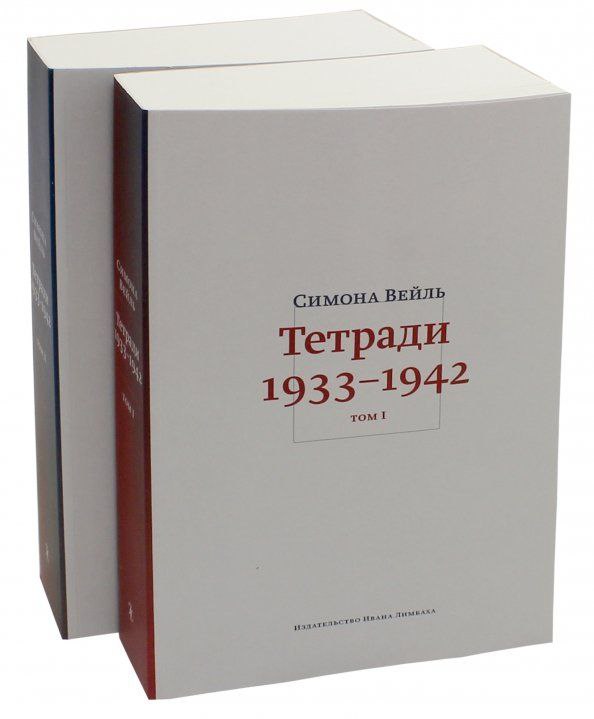
В СССР флёр как прогрессивной страны оставался даже в 60-е годы. Главная тогдашняя феминистка Симона де Бовуар приезжала в Советский Союз и её воспоминания о визите в СССР мне очень нравятся. Хотя сама она мне не близка. Если выбирать из французских женщин — это Симона Вейль, религиозная мыслительница, умерла от истощения в молодом возрасте. Её активность и молодость пришлась на оккупацию. Она уехала вместе со штабом де Голля в Англию и там жила свои последние годы. После неё осталось четыре тома дневников и очень много эссе, статей. Все они посвящены духовному вопросу: как быть в трагическом веке с верой, с самим собой. Очень много размышлений о литературе, она любила греков, Гомера. Вейль для меня, наверное, один из самых близких авторов и мыслителей.
— Ты сказал в какой-то момент: «Я своё место знаю». Художница Мария Янковская сказала такую фразу, что её обвиняют, что она не живописец, а она ответила, что ей в этой роли комфортно. А как ты себя воспринимаешь, тебе на своём этом месте как?
Это трудно оценивать. Будучи внутри ситуации, я могу только сказать, что меня не трогают ни критические отзывы, ни похвалы. Потому что я знаю, что хотел сказать.
У меня нет иллюзий по поводу себя и в то же время нет желания, чтобы кто-то меня правильно оценил, понял или запомнил. Все понимают, что в современном мире память у людей короткая, всё забывается. Рассчитывать на то, что проживешь дольше, чем клик, когда человек нажимает на реакцию под постом в Телеграме мне кажется глупо.
— Хотела спросить тебя по поводу Санкт-Петербурга. Ты из Кемерово туда переехал, жил недалеко от места, где Виктор Робертович Цой гулял со своей женой и ребенком в парке, и городом очевидно был очарован. Ты писал, что-то про «столичный» вайб. Давай сразу договоримся — столица у нас одна, и мы в ней сейчас находимся.
Петербург лучше конечно (смеётся). Это сугубо личное восприятие.
— Но ты же в Москве живёшь тем не менее?
Я постоянно об этом думаю. Мне нравится погода Петербурга. Я меланхолик, я не люблю солнце, потому что ты сидишь дома, хочется почитать, а тут солнце выглянуло, и ты вынужден просто выйти на улицу.
— Можно же и в парке почитать.
Но для этого надо выходить из дома. Петербург — это как у Обломова халат, который отзывался на его движение. У меня было ощущение, когда я жил в Петербурге, что город отзывается на каждое мое движение, то есть мы как будто с ним соединены каким-то образом. Это очень личное восприятие.
— Так а в Москву ты как тогда приехал и зачем?
Возможно потому, что моя деятельность связана с частыми переездами. Отсюда удобно куда угодно улетать и уезжать. Здесь я просто сижу у себя на районе в Сокольниках, почти не вылезаю вообще, только в парке побегать. Я живу с постоянным ощущением того, что вот-вот отсюда уеду. Но никак не получается. Уже третий книжный шкаф купил.
— Ну любишь, наверное, Москву всё-таки.
Ну вообще, конечно — как можно не любить место, в котором ты так долго живешь? Я просто люблю Москву отдельными районами, то есть не совокупно. Я не ненавижу Москву, я просто люблю Петербург. Я вообще мало что не люблю, я почти всё люблю.
В то же время, если говорить о деятельности, то бегать мне не нравится, тренироваться не нравится, писать не нравится. Но это приходится делать.
Есть несколько областей спортивной деятельности: я занимаюсь единоборствами, хожу в, так называемый, фитнес, бегаю, йогу делаю. Из этого всего мне больше всего нравится бег. Ты бежишь и ты один, дышишь.

— Давай про музыкальное творчество. Как вы с Евгением Алёхиным работаете над текстом?
Как правило получается так, что он раньше меня пишет. Для него написать текст ничего не стоит — полчаса и всё готово. Ну я просто не могу на такой скорости работать, он быстрее гораздо. А я уже потом несколько дней думаю над ответом на его текст в рамках одной композиции.
— То есть это некая полемика. Как у Новикова с Екатериной II?
Я бы скорее сказал, что один отзывается эхом на другого.
— Тебе нравится выступать, есть кайф от этого?
Ну вот в моменте «затаскивание» себя мне тяжеловато дается, как и всякая деятельность в жизни. Но это лучшая работа, которая может быть. Если сравнить со всеми предыдущими работами, которые у меня были, это, безусловно, лучшая. Это реально уникальный опыт, который стоит потраченных усилий.
— Вы даёте концерты на довольно большую аудиторию. Не скучаешь по камерному формату?
Да нет. Я не вижу смысла скучать по чему-либо.
— Судя по некоторым вашим композициям так не кажется, «Так любят покойники», например.
Это был отдельный период, эти песни относятся к нему. Тогда немного другое было настроение. Ностальгия у меня есть, мне это чувство знакомо, но оно скорее связано со временами, в которых я не жил.
— Чувствовать иначе тебе йога помогла? Литература?
Хороший вопрос на самом деле. Я не знаю откуда это взялось. Может быть это не оптимизм, а скорее то, что я не верю в личность как концепт и как нечто, что развивается от одной точки до другой. То есть я не хочу вернуть прошлое, потому что мне лучше сейчас, я уверен, что прошлого нет.

— То есть каждый новый день ты обновляешься? Живёшь в моменте? Ты буддист получается.
Я во многом с буддистами согласен, но это скорее исходит не из того, что ты должен наслаждаться моментом, просто он есть. И нет ничего другого. Это Линч у актера Гарри Дина Стэнтона, своего друга, спрашивал почему он не медитирует, а тот сказал ему, что для него всё медитация. По отношению к жизни ничего не может быть кроме оптимизма, потому что другого просто нет и не будет.










